"Сбились мы. Что делать нам..."
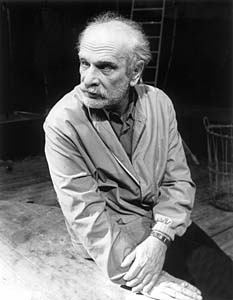 Время от времени телевидение показывает их вновь
– пушкинские работы Петра Фоменко:
"Повести Белкина" ("Выстрел", "Метель", "Гробовщик") и
"Пиковую даму". Скромные, казалось бы, совершенно непритязательные и зачаровывающие с первых кадров, волшебные, лёгкие, как дуновение…
Время от времени телевидение показывает их вновь
– пушкинские работы Петра Фоменко:
"Повести Белкина" ("Выстрел", "Метель", "Гробовщик") и
"Пиковую даму". Скромные, казалось бы, совершенно непритязательные и зачаровывающие с первых кадров, волшебные, лёгкие, как дуновение…
Тамара Сергеева. Пётр Наумович, почему же только три повести, а не все пять?
Пётр Фоменко. "Повести Белкина" я начал снимать в начале 80-х: сделал "Выстрел" и "Метель", затем наступил перерыв – долго не мог приступить к "Гробовщику", а "Станционного смотрителя" и "Барышню-крестьянку" по разным причинам вообще снять не удалось. Я об этом очень жалел в своё время, но теперь уже ничего не сделаешь. Не снял я и произведение, являющееся прелюдией к "Повестям Белкина", – "Историю села Горюхина", затакт, врата в "Повести". С неё и надо было начинать. Жаль, что не получилось. Не буду зарекаться, но, возможно, "Гробовщик" был последней в моей жизни работой на телевидении…
Сегодня телевизионный театр почти не существует. Осталось не так уж много людей, которые умеют читать на телевидении книгу так, как это делал Анатолий Васильевич Эфрос, как Павел Резников, Марк Захаров, Анатолий Васильев.
Я не боюсь этого скучного слова "литературный театр". В театрально-телевизионном чтении переплетаются театр, кинематограф, телевидение и создается нечто неповторимое. Театр экранно оживающей книги может быть интересен, и у него могло бы быть большое будущее.
При этом я не апологет телевизионного искусства. Телевидение мне в душу проникает редко. Это связано с тем, что оно поверхностно ощущает и радость, и страдания человека. И потому интересно для меня только как информация. Есть предчувствие непредсказуемых утрат, которое оно, а также компьютеры несут нам. Никто не знает, что вообще будет с книгой в эпоху компьютеров… Это тот случай, когда цивилизация может вступить в необратимый конфликт с культурой, и я, честно говоря, чувствую себя глубоко отставшим от прогресса, за которым не пытаюсь поспешать.
Даже канал "Культура" несёт на себе следы суетности в лучших своих проявлениях. От него требуется величайшее мужество не поддаваться соблазну расширять аудиторию. Это, может быть, звучит странно, но я действительно думаю, что расширять аудиторию не нужно, она сама пойдёт навстречу медленному, подробному телевизионному чтению или не пойдёт.
Сам я на телевидении работал урывками, всегда поспешно, и часто чувствовал некоторую суетливость этих моих работ, тосковал по медленному чтению…
Т. Сергеева. Медленному чтению?
П. Фоменко. Медленное чтение на экране – это как медленное чтение книги: не бояться вернуться к чему-то, повторить произнесённое с новой позиции, с уточнением, с последующим углублением. Проникновение в слово, за слово, нахождение смысла между словами. Очень часто только второе-третье прочтение великой книги даёт нам возможность её понять. Телевидение – это зрелище, которое сегодня вытесняет медленное чтение. А быстрое чтение губительно…
Т. Сергеева. Когда вы начинаете работу над экранизацией или инсценировкой, вы определяете свою позицию как позицию интерпретатора, который идет за первоисточником, или отталкиваетесь от него, создавая свой собственный мир?
П. Фоменко. Вы знаете, здесь всё переплетается – и интерпретация, и выражение собственного отношения к миру, к жизни, к прошлому, настоящему и будущему. Но сама свобода этого выражения обретается только тогда, когда безумно в авторе растворишься. И при этом тот же Пушкин даёт возможность делать с ним все что угодно. С него не убудет. Ему и юбилейная кампания не повредит, пусть его даже по строчкам на рекламу растащат.
И я в свои молодые годы поступал с классикой достаточно вольно, но пушкинский прах осквернить невозможно. Любовь дает право на любое волеизъявление. Мои студенты такое с ним творили – Моцарт и Сальери болтались у них чёрт-те где, на каких-то канатах…
Т. Сергеева. Да здравствует импровизация?
П. Фоменко. Импровизация действительно необходима, особенно на съёмках. Но касается она только пластики, движения, здесь можно импровизировать как угодно, а вот со словом Пушкина надо поступать осторожно. Импровизация текста часто оборачивается заменой хорошего, точного слова на плохое. С Пушкиным-поэтом мне не хочется вступать в соавторство. Зачем?
И потому само слово "инсценировка" для меня сомнительно. Я считаю, что надо именно читать книгу. И не думайте, что это так просто – взял книгу, поставил ее на пюпитр и перед камерой стал с ходу читать. Нет, это кропотливое дело. К тому же, мне кажется, что если инсценировать, искать в прозе какую-то драматургию, выделять диалоги, более сжато и энергетически основательнее рассказывать историю, то уйдет очень многое, за этой внешней энергетикой (ныне модное слово) потеряется энергия слежения. А этот процесс проживания очень важен. Не всегда прозаической фактуре нужен драматургический эквивалент. В прозе другое пространство – необозримое, другое время, другие законы.
Т. Сергеева. То есть для вас главное – само слово?
П. Фоменко. Безусловно.
Т. Сергеева. Вы своим актёрам любите предоставлять возможность поиграть со словом, отстраниться от него?
П. Фоменко. Да. Отстраниться, а иногда и, наоборот, его "обмять" с разных сторон. Сейчас я этим в театре занимаюсь. Знаю замечательных режиссёров, которые считают, что слово вообще не суть важно. Им интересно играть за словом, под словом, помимо слова, вместо слова. А для меня театр – это слово. Оно есть дело, оно есть суть и божество. Всё-таки в начале было Слово, что же делать. Для меня оно есть и конец тоже. Сейчас оно девальвировано, именно поэтому хочется восстановить его в правах, в его неповторимости и первозданности. Я говорю о Пушкине в первую очередь.
Т. Сергеева. А что для вас Пушкин?
П. Фоменко. В год 200-летия со дня его рождения всерьёз отвечать на этот вопрос не могу. Как иронично теперь говорят многие: "Пушкин – наше всё". Но в этот тон впадать не хочется. Вы знаете, я всю жизнь с Пушкиным живу, немалая заслуга в этом моей учительницы по литературе Анны Дмитриевны Тютчевой (родственницы Фёдора Ивановича Тютчева и Баратынского). Прекрасный человек, замечательный педагог. И когда невмоготу, когда мне невмочь пересилить беду, знаю, что есть не только синий троллейбус у Булата Шалвовича, но есть ещё пушкинские тома. Когда-то я читал Пушкина много, но, к сожалению, всё больше по делу. Это очень плохо – чтение литературы режиссёром с точки зрения "а как это возможно сделать в театре, в кино?". Есть какая-то бессознательная меркантильность в таком подходе к литературе. Теперь же мне всё больше хочется читать Пушкина просто так.
Моя последняя работа в театре, кстати, тоже была по Пушкину – в 1996 году – пятая, наверное, в моей жизни редакция "Пиковой дамы". И, может быть, будет дальше ещё что-то, хотя…
Т. Сергеева. Ваше восприятие Пушкина с годами не меняется?
П. Фоменко. Пушкин делает меня взрослее и моложе. На старости лет я стал понимать, какое это счастье – почувствовать себя иногда человеком, который может с ним поговорить, послушать его. Чем дальше от молодости и ближе к концу жизни, тем острее чувство счастья от общения с Пушкиным, который для меня живой человек.
А в общем, считаю, что совершенно ничего о Пушкине не знаю, хотя всю жизнь стремился им заниматься, и, наверное, самой серьёзной моей работой был студенческий спектакль "Борис Годунов" в ГИТИСе.
Т. Сергеева. Какое произведение Пушкина вам лично наиболее близко?
П. Фоменко. Самое близкое то, в которое погружаюсь. Недавно вновь "вник" в "Русалку" (благодаря изысканиям Пушкинского центра Владимира Рецептера в Петербурге), которая кажется скучной для многих. И я грешен был – никогда её не хотел ставить. Безумно люблю "Египетские ночи". Всё время думаю: вот Булгаков не закончил "Театральный роман", как бы он его закончил? А как бы закончил "Египетские ночи" Пушкин? И как бы он закончил "Русалку"? И как продолжил "Египетские ночи" Таиров? Он же их ставил, а потом перешел к Шекспиру и Бернарду Шоу, и в "Клеопатре" вернулся к "Ночам" уже через них. Это всё удивительно интересно…
Т. Сергеева. Был ли какой-то реальный зрительский отклик после ваших пушкинских телеработ?
П. Фоменко. Писали письма, благодарили, спорили. Сейчас бы уже писать не стали. Кто смотрит телеспектакли!
Т. Сергеева. Но и для вас самого работа на телевидении имела, наверное, немалое значение?
П. Фоменко. Она была очень важна. Я пришел работать на телевидение тогда, когда оно только начиналось, ещё на Шаболовку. Было интересно "читать" телевизионную прозу. Но о специфике телевизионной работы мне говорить трудно. Она связана и с кинематографом, и с театром, а главное – с проникновением в зазеркалье. Зазеркалье в смысле – за крупный план, потому что ничего нет интереснее погружения в человека.
Телевидение может быть безобразным, когда камера холодно скользит по поверхности чего бы то ни было. И может быть прекрасным, когда ощущается её дыхание вместе с человеком. Есть великая загадка в этом технологичном полуискусстве, детище ХХ века. Когда я там работал, технические его средства были очень скромными, и это казалось вполне соответствующим тому, чем я пытался заниматься. Сейчас технические возможности телевидения колоссальны, но они мне кажутся абсолютно неинтересными. Я в них не вижу высокой ценности и предпосылок для проникновения в человека. А телевидение – это всё-таки человек.
Т. Сергеева. Интересно, для вас, режиссёра театрального, слово, которое звучит на сцене, принципиально отличается от того, которое произносится перед камерой?
П. Фоменко. Разумеется. Для меня телевидение на 90 процентов – это "поцелуй через стекло". И само слово тоже воспринимается как бы через преграду. Очень редко удается эту преграду – стекло объектива камеры и телеэкрана – преодолеть. В чём дело – не знаю. Может быть, в том, как встали звёзды…
Т. Сергеева. Можете поделиться вашими секретами преодоления этой преграды?
П. Фоменко. Мне кажется, об этом лучше не думать. Зависит от природы, от индивидуальности. И от искренности. Глазок камеры бывает ведь не только искренним, но и бесстыдным. Но бывают и прекрасные моменты. Вот если бы ещё телевидение посвятило себя движению вперёд не в смысле прогресса науки и техники, а движению вперёд через движение вспять, через обращение к истокам, к корням, к тому, что ушло.
Телевидение даже музыку "слушает" иногда глазами. Боится, что будет неинтересно, если картинка монотонная.
Один прекрасный поэт сказал, что струны поэта – это инструмент для прикосновения пальцев, трепетных от волнения. Мне кажется, что пальцы, трепетные от волнения, должны быть у телевизионного оператора, когда он "снимает" музыку или поэзию.
Т. Сергеева. Пётр Наумович, а можно ли оператору объяснить его задачу так, чтобы он это волнение сам стал ощущать?
П. Фоменко. Обычно я ничего не объяснял, просто мы друг друга чувствовали, хотя иногда и встречался в работе с людьми, для которых слово было не важно. Причем мне кажется, что режиссёр, занимающийся телевизионным театром, не должен доказывать оператору, что тоже знает технологию телевидения.
Т. Сергеева. Хотелось бы поговорить немного о принципе пространственного решения ваших телеспектаклей.
П. Фоменко. Так интересно проникать в глубь пространства, в среду, искать фактуру, чтобы она "не умирала" перед объективом… Но не уверен, что имею право на эту тему рассуждать, потому что я всё-таки вторичный телевизионный режиссёр. Не профессионал в полной мере. И, в общем-то, никогда не умел работать с пространством, подходил к нему очень театрально и обращался с ним куда более робко, чем в театре.
А хотелось работать так, чтобы камера была в гуще происходящего, казалась установленной иногда внутри человека. Чтобы артист был её поводырем. Именно человечность камеры предполагает то или иное пространственное решение, движение. Пространство – это движение человека в мире. И работа с пространством – это движение камеры как живого человека в пределах студии или на пленэре. Чувственное восприятие жизни чьими-то глазами, чьими-то ушами, чьим-то осязанием.
Т. Сергеева. Что для вас предметный мир вокруг героя?
П. Фоменко. Состояние души. Смятение чувств или выражение игры судьбы. Иногда это получалось беспомощно и вторично. Иногда, реже, удачно. В концовке "Метели" у нас долго, до стоп-кадра, колышутся в воздухе занавески. А визуальным лейтмотивом спектакля были голые ветки сада, леса, в которых проходила большая часть действия. Что-то кажется вторичным: те же ветки, те же блики, тот же вазелин на объективе камеры (чтобы изображение получалось словно увиденное через какой-то туман), марля, сквозь которую снимали, и прочее, и прочее, – но это создавало ощущение преодоления среды, создавало нужное настроение.
Сегодня все эти спецэффекты создаются техническим путем, результат невероятный. Но мне это неинтересно.
Т. Сергеева. Когда вы снимали "Детство. Отрочество. Юность" Толстого, то говорили, что для вас одна из важнейших специфических особенностей телевизионной эстетики – это статика. А когда стали снимать "Повести Белкина", то ввели в кадр непрерывное кружащееся движение.
П. Фоменко. Этого потребовал материал. Хотя и в пушкинских телеспектаклях тоже была статика, потому что без статики динамика невозможна. Статика действия предполагает движение камеры, а статика камеры предполагает движение артиста в кадре. Этот контрапункт движения и статики очень интересен, так же как интересен контрапункт темпа и ритма. Напряжённейший ритм может иметь колоссально медленный темп. Но это большие мастера кино знают гораздо лучше меня. Мои же рассуждения на эту тему – изобретение велосипеда.
Т. Сергеева. А вы искали какой-то эквивалент пушкинскому сюжетному движению в вашем ритмическом решении?
П. Фоменко. Сознательно – нет. Были моменты в "Метели", в "Гробовщике", когда движение, ритмическая, пластическая и даже динамическая перспективы потом приходят к абсолютной статике. Но в "Гробовщике" есть какие-то динамические сумасшедшие моменты, снятые очень "грязно" и беспомощно. Я имею в виду наваждение Адрияна Прохорова, после которого идет статический кусок его пробуждения.
Т. Сергеева. В чём для вас принципиальная разница изобразительного решения сценического действия и телевизионного кадра?
П. Фоменко. В авторе. Всё равно – на телевидении или на сцене – это авторский театр, как бы мы ни пытались его подмять под себя, сознательно или бессознательно. И автор предполагает каждый раз новые соотношения всех выразительных средств.
Т. Сергеева. А редактура как-то вмешивалась в ваше режиссёрское решение?
П. Фоменко. Гладко моя работа на телевидении никогда не проходила, всегда существовала на грани конфликтов, из моих фильмов часто что-то вырезали: то кресты на церквях, то эпизоды, в которых герои пьют водку. Но у меня был преданный редактор – Бетти Иосифовна Шварц, замечательный человек и мой друг, моя Тайная Доброжелательность. Я питаю к ней огромное благодарное чувство – она открыла для меня смысл редактуры в телевизионном театре. К сожалению, Бетти Иосифовна уехала в Штаты.
Т. Сергеева. Я смотрела много пушкинских экранизаций и обратила внимание на то, что часто режиссёры, обращаясь к Пушкину, экранизировали в основном сюжеты его произведений, а вы едва ли не единственный, кто создает атмосферу вокруг этих сюжетов.
П. Фоменко. Это Михаил Александрович Чехов называл "партитура атмосфер". Сам Пушкин удивительно чувствовал атмосферу. Он, один из гениальных русских невыездных (самое далёкое его путешествие было в Молдавию), никогда не был за границей. И, тем не менее, как чувствовал Францию! Как чувствовал Италию, Испанию, как чувствовал мир… Гражданин Вселенной, Пушкин прожил недолго, но как ощущал старость, чувствовал восторг молодой любви и думал о наступающей смерти. Как он написал Пимена в "Борисе Годунове"! Это что-то удивительное, так написать старость человека, который, умирая, пишет о стране.
Т. Сергеева. Какую сквозную, объединяющую тему вы выделили для себя в "Повестях Белкина"?
П. Фоменко.
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Сила судьбы. И удивительно светлое, лёгкое дыхание Пушкина. В этом лёгком дыхании есть своя загадка. Пушкин любит загадки, но их никогда не надо разгадывать, не надо их препарировать, с ними надо жить. Будь то загадка "Выстрела", загадка "Гробовщика" или загадка "Метели". Не случайно так любил Достоевский и "Бесов", и "Пиковую даму", и "Цыган". И сегодня нас также водят бесы:
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
Я и в "Метель" ввел своеобразную сюиту на тему "Бесов". Вот то, что меня интересовало: игра судьбы, предначертанность, бесовская предопределённость судьбы. Светлая бесовщина. Пушкин был человеком, глубоко верящим в судьбу. Его загадки глубоко человеческие, в них переплетены и грех, и высокое целомудрие. Он ведь святой грешник, Пушкин. Целомудрен, а иногда утонченно развращён. И всё равно остается ощущение высокого духа…
Т. Сергеева. А что, по-вашему, самое главное в "Пиковой даме"? Театральная постановка у вас более лёгкая и ироничная. Та, что снята на телевидении в 1987 году, более эмоционально насыщенная, напряжённая. Какой была первая телевизионная "Дама", её уже не увидеть, вряд ли что сохранилось от тех съёмок?
П. Фоменко. Тоже игра судьбы, предопределённость, загадки, которые опасно разгадывать. Ведь потомки графини даже не пытались разгадать её тайну, а Германн попытался это "ядро" расщепить. Он человек другой культуры и не понимал, что есть загадки, с которыми надо уметь жить. Отсюда, кстати, возникает у нас такой персонаж, как Тайная Недоброжелательность, некий Дух, инфернальное существо, которое впервые появилось у меня в "Пиковой даме", сделанной на телевидении со студентами в 1987 году, а до этого был только намёк, обыгрывание эпиграфа.
"Пиковая дама" – работа, к которой я возвращаюсь всю жизнь то на телевидении, то в театре, делал даже в Париже, в Консерватории с французскими студентами. Все мои "Пиковые дамы" – это попытка, подчас монотонное прочтение всех шести глав пушкинской повести.
Первый раз я снимал её двадцать пять или даже тридцать лет назад на Шаболовке, ещё во времена прямого эфира. В роли графини – Эда Юрьевна Урусова, Германн – Алексей Эйбоженко, Сен-Жермен – Александр Калягин. Эта "Пиковая дама" – наиболее литературная. В ней были замечательные моменты у Урусовой, которая сыграла интересно, своеобразно. Этот спектакль не был целостным. Сделанный поспешно, он снимался с одним только монтажным стыком, представляя из себя оживающую книгу, превращение её в театр. Фон – Петербург, и весьма примитивный, банальный, условный: виньетки, решётки, мостики, какие-то детали мебели. Главным для меня были крупные планы.
"Пиковая дама" 1987 года (последний раз её показывали по телевидению года три назад) снималась в интерьерах музея А. С. Пушкина на Кропоткинской. Музыкальный ряд – в основном Глинка и другие авторы пушкинского времени. Играли студенты из ГИТИСа, целый курс, актёры и режиссёры.
Для сценической "Пиковой дамы" 1996 года я взял Сибелиуса (помните, "Грустный вальс"?), мне показалось, что большая театральная сцена предполагает другие звучания.
Т. Сергеева. "Пиковая дама" не отпускает вас всю жизнь. Чем же она так близка вам, вы случайно по натуре не игрок?
П. Фоменко. Нет, не игрок, не на что было играть. Я играю с театром, играю со своей профессией, слишком многое она для меня значит.
Т. Сергеева. То есть по большому счету тоже играете со Случаем. Какую же роль определяете ему в вашей жизни?
П. Фоменко. Огромную. Но чаще всего случай разрушителен для моей судьбы.
Т. Сергеева. Для вас тема рока важна только в пушкинских ваших работах или в других присутствует тоже?
П. Фоменко. Она присутствует, безусловно, везде. Да и в жизни, вы не представляете, как со мной поступала судьба. Впрочем, наверное, то же можно сказать обо всех. Тема игры судьбы с человеком возникает в каждой моей работе: и в "Смерти Тарелкина" (хотя там и есть проблема выбора), и в "Калигуле" по Камю, да и в других.
Т. Сергеева. Для многих наших режиссёров "Пиковая дама" оказалась роковой повестью, в работе над ней им всё время что-то мешало, на них сваливались все мыслимые неприятности. В результате и Михаил Ромм, и братья Васильевы, и Михаил Козаков так и не сняли её. А вам Тайная Недоброжелательность не оказывала сопротивление в работе?
П. Фоменко. Действительно, есть вещи, к которым прикасаться опасно. Например, ко второму тому "Мёртвых душ". Гоголь его сжёг, и, может быть, наше пренебрежение волей автора будет наказуемо. И к "Пиковой даме" обращение может быть опасным. Одна из моих любимых артисток, Людмила Васильевна Максакова, как-то подошла ко мне и сказала: "Я боюсь играть смерть". Это связано не только с "Пиковой дамой", любые игры со смертью страшны. Но театр – он святой и грешный. И я верю, что нам будет прощено…
Т. Сергеева. А как вы относитесь к мистическим мотивам у Пушкина?
П. Фоменко. Их у него нет! Есть тайна, есть загадка. Мистика есть у Гоголя, великого абсурдиста, родоначальника театра абсурда. Пушкин же магический поэт, прозаик, мыслитель, но только не мистик. Меня упрекали, когда вышла моя последняя "Пиковая дама", что я не почувствовал мистического начала в Пушкине. А я действительно не чувствую его. Хотя и можно было поддать чертовщины и тому подобного, но это будет не Пушкин. Для меня он высок и светел и в самых его загадочных моментах. Пушкин – это жизнь, даже там, где его персонажи ищут смерть.
Дон Гуан Пушкина стремится к смерти потому, что хочет любви, он имеет право на любовь и каждую минуту готов умереть за неё. Поэтому о его наказании говорить смешно. И в какой-то степени пушкинский Дон Гуан – это сам Пушкин, который, мне кажется, тоже искал смерти. Его век – это его век, и смерть его не случайна. Это вопрос судьбы, с которой он жил в полном согласии.
Т. Сергеева. Для вас Пушкин – это Дон Гуан. А у самого Пушкина кто, по-вашему, был его любимым персонажем?
П. Фоменко. В "Онегине" – Татьяна. Он обливался слезами над ней. В "Повестях Белкина", думаю, – Маша в "Метели".
Т. Сергеева. Женские образы?
П. Фоменко. Нет, не только, хотя, конечно, ему было присуще божественное чувство женщины, её природы, её психологии и физиологии. Но представляете, как он, например, любил своего Самсона Вырина?
Т. Сергеева. У Пушкина каждую повесть рассказывает всякий раз другой рассказчик…
П. Фоменко. Да, рассказывает каждый раз кто-то другой. Это великая игра и великая хитрость.
Т. Сергеева. Кто же рассказывает у вас?
П. Фоменко. Иван Петрович Белкин. В этой роли у меня снимался Алексей Сергеевич Эйбоженко, мой любимый актёр (мы с ним до этого работали и в театре, и на телевидении – он снимался в моем скромном телевизионном фильме "На всю оставшуюся жизнь"). Но Эйбоженко умер в разгаре съемок "Выстрела". Вы не знаете эту историю? Вторая половина "Выстрела" снималась уже без него, и я пытался закадрово в его манере вести пушкинский текст. Потом в "Метели" я читал уже весь закадровый текст. Это не оригинально, но Бог с ним. Во всяком случае, я хотел бы "Повести Белкина" посвятить памяти Алексея Сергеевича.
Что же касается того, кто на самом деле рассказчик в "Повестях Белкина", то это Пушкин, будь то девица, или чин военный, или чиновник – Пушкин рассказывает. Я даже захотел, чтобы Сергей Тарамаев, который в "Метели" играл Владимира, появлялся у нас и как Пушкин. Не буквально, но чтобы во Владимире иногда проступала и пушкинская природа, его облик. Тарамаев прекрасный артист и очень подходил для этой роли. В нём чувствовалось пушкинское начало. Мы сняли, как он читает "Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы":
Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня.
Грим у него был не портретным, так как я считал, что Пушкина можно сыграть без претензий на портретное сходство.
Т. Сергеева. И почему не вошёл в фильм снятый вами эпизод?
П. Фоменко. Эта идея возникла в процессе съемок, но, сняв Тарамаева, я понял, что тогда нужно делать такого Владимира, в котором есть пушкинская судьба, чтобы его тема и тема Пушкина переплетались. А это потребовало бы громадной подробности работы, подробного телевизионного монтажа, нужно было бы искать очень плавные микшерные переходы, наложения и даже, может быть, иногда одновременное их существование. На это ни времени не было, ни средств.
Т. Сергеева. Эта съёмка сохранилась?
П. Фоменко. Бог весть. Не знаю. Был бы очень рад.
Т. Сергеева. Вам кто-то из Пушкиных, сыгранных другими актёрами, нравится?
П. Фоменко. Много лет назад играл Пушкина Всеволод Семёнович Якут в спектакле, поставленном по пьесе в стихах, которую написал Андрей Глоба. Я тогда учился в школе и ходил на этот спектакль раз двадцать, без билета пролезал.
Т. Сергеева. Так было интересно?
П. Фоменко. Спектакль был ужасен и интересен одновременно. Странное зрелище, мелодрама чистой воды. Но, не скрою, я люблю мелодраму.
Т. Сергеева. Правда?
П. Фоменко. В театре – очень люблю. Мне кажется, это хороший жанр. Но кому как.
Т. Сергеева. Вы в детстве, наверное, были театроманом?
П. Фоменко. Да нет, не особенно, я же был ребёнком войны. Но мне многое дала мама, постепенно привила любовь к театру, к музыке. Я в театр пришел через музыку.
Т. Сергеева. Знаю, у вас три высших и одно среднее образование.
П. Фоменко. Это не важно… Честно говоря, когда окончил несколько высших учебных заведений – это хуже, чем если бы вообще ничего не кончал. Я учился в Музыкальной школе имени Гнесиных, потом в Училище Ипполитова-Иванова, играл на скрипке, учился в студии Художественного театра, учился в педагогическом институте. И благодарен судьбе, что учился в пединституте. Как говорится, не было бы счастья… В то время туда приходили многие из тех, кого не брали в другие институты, я там встретил замечательных людей, которые стали моими друзьями, – Юрия Визбора, Юлия Кима, писателя Юрия Коваля. Иных уж нет, а те далече…
Т. Сергеева. Ваше филологическое образование помогает в режиссёрской работе?
П. Фоменко. Разве что в том, что я сам стал училкой, преподавал в ГИТИСе лет пятнадцать-двадцать, а потом из моего курса возник наш театр.
Т. Сергеева. В ваших "Повестях" отчетливо доминирует элегическая нота, такое чувство, что герои растеряны перед жизнью, почему?
П. Фоменко. Мне кажется, у самого Пушкина есть и тревога, и зачарованность. Но не могу сказать, что герои растеряны. Вообще мне хочется, чтобы не было единоустремленных и действенно неколебимых людей в пушкинских фильмах и спектаклях. Его герои сотканы из противоречий.
Т. Сергеева. Что, по-вашему, сегодня наиболее актуально для нас у Пушкина?
П. Фоменко. Не хочу говорить о гениальности, о таланте, скажу просто – искренность. Искренность гения. Гений всегда есть гений. Бывают страшные, тяжелые, мучительные гении, такие, как Фёдор Михайлович, бывают светлые гении, с лёгким дыханием, такие, как Александр Сергеевич. Бывают загадочные гении, как Гоголь.
И тем не менее, я уверен в том, что в Пушкине самое дорогое – его энциклопедия русской жизни, созданная человеком такой искренности, такой благорасположенности и доверчивости, какой не часто встретишь. Да много всего можно ещё говорить.
Т. Сергеева. Какой самый важный для себя урок вы извлекли из работы над Пушкиным?
П. Фоменко. Только один урок – я не могу смотреть свои работы, они мне кажутся совершенно недостойными. А сейчас надо уже учиться у молодых чему-то. Учиться никогда не поздно.
Т. Сергеева. Вы вообще-то смотрите пушкинские экранизации? Не задумываетесь о том, почему поэт – в принципе вроде бы кинематографичный – оказался так труден для кино?
П. Фоменко. Я уже говорил о том, что Пушкин выигрывает тогда, когда читаешь вместе с ним его книгу. Как только начинаешь искать какой-то особый кинематографический, монтажный эквивалент, всё летит к черту. Так мне кажется.
Т. Сергеева. Вы это говорите потому, что сами пробовали искать?
П. Фоменко. Нет, не пробовал, но внимательно смотрел работы мастеров, которые это делали. И то, что я видел, удерживало меня от желания пробовать. Кроме того, в Пушкине есть вещи, которые невозможно пропускать. Его поток восприятия русской жизни, поток сознания людей, работа души – всё это остается за кадром, если бояться его прозы. Вы, наверное, знаете "Пиковую даму" Игоря Масленникова, в которой играет Алла Демидова? Что в ней осталось? Остался прекрасный Чекалинский Смоктуновского. Всё остальное не состоялось, вот мое мнение.
Т. Сергеева. Неужели нет какой-нибудь пушкинской экранизации, которая вас заинтересовала бы по большому счету?
П. Фоменко. У каждого были свои ошибки. Но мне трудно говорить о пушкинских фильмах – Пушкина экранизировали много, а я видел мало и не стремился смотреть. Фильм Соловьева был хорошим. Из "Метели" помню только музыку Свиридова. Есть замечательные мгновения у Швейцера.
Т. Сергеева. В "Маленьких трагедиях"?
П. Фоменко. Да. Но там же есть и фрагменты из "Египетских ночей". Режиссёр в своем телевизионном кинематографе не боялся театральности, не боялся литературного театра… В кинематографической версии Швейцера мне очень понравилось само чтение Пушкина. В "Египетских ночах" Импровизатор – Юрский далеко не всегда кажется безусловным, но тем не менее он замечателен. Высоцкий в какие-то моменты интересен, хотя и мог бы быть более трагичным и более лиричным.
Т. Сергеева. Вы сами часто откровенно рисковали, приглашая сняться не только актёров ещё мало кому известных, но и студентов. Как осуществлялся подбор актёров?
П. Фоменко. По-разному. Иногда у меня играли только студенты, например в "Гробовщике", где кроме молодых ребят, для которых это стало хорошей школой, было только два опытных артиста.
Т. Сергеева. Насколько важен для вас актёр, или вы можете его промахи как-то перекрыть режиссёрскими придумками?
П. Фоменко. Нет, нет, нет. Перекрывать никак нельзя. Если артист играет неважно, тогда и спектакль, и фильм проигрывает. Поэтому надо знать природу и внутреннюю организацию артиста – любит ли он это слово, этот дух, эту литературу?
Т. Сергеева. В своих взаимоотношениях с актёром вы ему советчик, доверяете ему или жёстко говорите, что нужно, подстраиваете под себя?
П. Фоменко. Да нет, если только диктовать, то это неинтересно. Конечно, приходится всё-таки что-то выстраивать для актёра, но потом надо успеть отпустить его на волю.
Т. Сергеева. Что для вас идеальный актёр?
П. Фоменко. Не что, а кто. Может быть, потому что чем дальше, тем больше я чувствую его отсутствие. Это Эйбоженко, у которого, с одной стороны, было соединение театральности и подлинности, особенно в "Смерти Тарелкина", с другой – беззаветность. А ещё – вера в режиссёра, это уже моя эгоистическая ему благодарность. Жалею, что так мало с ним работал.
Т. Сергеева. А темперамент вам важен?
П. Фоменко. Безусловно, но он дорогого стоит именно тогда, когда артист пытается его преодолеть и сдержать, а не наоборот. Ещё я был очень увлечен единственной моей работой с Леонидом Филатовым в "Выстреле". Он привлекал своей неврастенией и тем, что чувствовал автора. Не случайно Филатов стал пишущим актёром.
Дорожу несколькими работами с Маргаритой Тереховой, замечательной актрисой. В ней есть удивительная высота души и умение сдержать себя. Терехова сама по себе та загадка, с которой надо жить. К тому же она умна, тот редкий случай, когда ум не мешает актрисе.
А о Михаиле Данилове могу сказать, что в этом замечательном театральном артисте есть инфернальность, сочетающаяся с удивительным чувством юмора. Мне он был этим интересен. Я мечтал что-то спокойно с Михаилом Даниловым снять, вернуться к "Гробовщику", например, сделать его заново.
Т. Сергеева. Вы долго, тщательно обдумываете новую работу, к которой собираетесь приступить?
П. Фоменко. Работаю всегда медленно. Делаю для себя подробный сценарий; даже если оставляю весь текст нетронутым, все равно приходится всё раскадровывать, и я рисую кадрики для себя. Причем раскадровываю только для того, чтобы потом всё это порушить в процессе съёмок, пойти по совершенно другому пути. И не только на телевидении так происходит, но и в театре – всё, что затеваю, тут же приобретает противоположное решение в процессе работы. Такая хаотичность в работе, конечно, непрофессиональна.
Т. Сергеева. Были ли у вас неосуществлённые пушкинские замыслы?
П. Фоменко. Я очень жалею, что никогда не использовал "дуэль" Тургенева и Достоевского на открытии памятника Пушкину, те их знаменитые две речи в дворянском собрании. Между прочим, мне была подарена медаль, которую в тот год присуждали разным людям в честь открытия памятника… Ещё когда-то было намерение сделать телевизионный полифонический пушкинский спектакль, который я для себя условно называл "Душа в заветной лире". Пушкин, окруженный поэтами России и мира, которые обращались к нему. Идея довольно расхожая – мир поэзии, который окружает Пушкина, сходится на нем и расходится от него, борется за него, присваивает его себе… Цветаевский Пушкин, ахматовский Пушкин, Пушкин таких божественных поэтов, как Блок, Бродский и Давид Самойлов, Пушкин Багрицкого и Пушкин Серебряного века. Как к нему обращались, как пытались выразить себя через него, а он всё равно был прекрасен. Всё равно: "Душа в заветной лире мой прах переживет…" Вакханалия вокруг Пушкина и в то же время гимн ему…
Я даже написал куски сценария. Сумасшедший замысел, который, наверное, выстроить было невозможно, если уж всерьёз говорить. Но, может, это сейчас надо было бы делать, в связи с этим немного суетливым и в то же время прекрасным 200-летием. Уже мы в нашей жизни до следующего подобного пушкинского дня не доживем.
А в конце хочу сказать, что все мои пушкинские работы были бледным подобием задуманного, не более. Но я рад, что они в моей жизни были. Со мной работали замечательные люди, мы жили Пушкиным, были счастливы…
Фото М. Гутермана
"Искусство кино", №6, 1999 г.